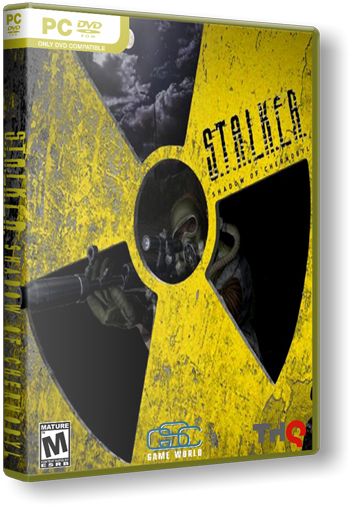Бахтин О Рабле Краткое Содержание
М.М.Бахтин ТВОРЧЕСТВО ФРАНСУА РАБЛЕ И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РЕНЕССАНСА ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ Из всех великих писателей мировой литературы Рабле у нас наименее популярен, наименее изучен, наименее понят и оценен. А между тем Рабле принадлежит одно из самых первых мест в ряду великих создателей европейских литератур. Белинский называл Рабле гениальным, «Вольтером XVI века», а его роман – одним из лучших романов прежнего времени. Западные литературоведы и писатели обычно ставят Рабле – по его художественно-идеологической силе и по его историческому значению – непосредственно после Шекспира или даже рядом с ним. Французские романтики, особенно Шатобриан и Гюго, относили его к небольшому числу величайших «гениев человечества» всех времен и народов.
Его считали и считают не только великим писателем в обычном смысле, но и мудрецом и пророком. Вот очень показательное суждение о Рабле историка Мишле: «Рабле собирал мудрость в народной стихии старинных провинциальных наречий, поговорок, пословиц, школьных фарсов, из уст дураков и шутов. Но, преломляясь через это шутовство, раскрывается во всем своем величии гений века и его пророческая сила.
Всюду, где он еще не находит, он предвидит, он обещает, он направляет. В этом лесу сновидений под каждым листком таятся плоды, которые соберет будущее. Вся эта книга есть «золотая ветвь» 1 (здесь и в последующих цитатах курсив мой.
Все подобного рода суждения и оценки, конечно, относительны. Мы не собираемся решать здесь вопросы о том, можно ли ставить Рабле рядом с Шекспиром, выше ли он Сервантеса или ниже и т.п. Но историческое место Рабле в ряду этих создателей новых европейских литератур, то есть в ряду: Данте, Боккаччо, Шекспир, Сервантес, – во всяком случае, не подлежит никакому сомнению.
Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса - описание и краткое содержание, автор Михаил Бахтин, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru. Перед вами культовая книга всемирно известного ученого-филолога М.М. Бахтина (1895–1975). Она была закончена в 1940 году, а опубликована только четверть века спустя – в 1965 году и на многие годы определила развитие мировой науки о литературе. Народной смеховой стихии, по Бахтину, противостоит, с одной стороны, официально-серьезная культура, с другой – критико-отрицающее начало сатиры последних четырех. Краткое содержание Гаргантюа и Пантагрюэль Франсуа Рабле – краткие.
Рабле существенно определил судьбы не только французской литературы и французского литературного языка, но и судьбы мировой литературы (вероятно, не в меньшей степени, чем Сервантес). Не подлежит также сомнению, что он – демократичнейший среди этих зачинателей новых литератур. Но самое главное для нас в том, что он теснее и существеннее других связан с народными источниками, притом – специфическими (Мишле перечисляет их довольно верно, хотя и далеко не полно); эти источники определили всю систему его образов и его художественное мировоззрение. Именно этой особой и, так сказать, радикальной народностью всех образов Рабле и объясняется та исключительная насыщенность их будущим, которую совершенно правильно подчеркнул Мишле в приведенном нами суждении.
Ею же объясняется и особая «нелитературность» Рабле, то есть несоответствие его образов всем господствовавшим с конца XVI века и до нашего времени канонам и нормам литературности, как бы ни менялось их содержание. Рабле не соответствовал им в несравненно большей степени, чем Шекспир или Сервантес, которые не отвечали лишь сравнительно узким классицистским канонам. Образам Рабле присуща какая-то особая принципиальная и неистребимая «неофициальность»: никакой догматизм, никакая авторитарность, никакая односторонняя серьезность не могут ужиться с раблезианскими образами, враждебными всякой законченности и устойчивости, всякой ограниченной серьезности, всякой готовости и решенности в области мысли и мировоззрения. Отсюда – особое одиночество Рабле в последующих веках: к нему нельзя подойти ни по одной из тех больших и проторенных дорог, по которым шли художественное творчество и идеологическая мысль буржуазной Европы в течение четырех веков, отделяющих его от нас.
И если на протяжении этих веков мы встречаем много восторженных ценителей Рабле, то сколько-нибудь полного и высказанного понимания его мы нигде не находим. Романтики, открывшие Рабле, как они открыли Шекспира и Сервантеса, не сумели его, однако, раскрыть и дальше восторженного изумления не пошли. Очень многих Рабле отталкивал и отталкивает. Огромное же большинство его просто не понимает. В сущности, образы Рабле еще и до сегодняшнего дня во многом остаются загадкой. Разрешить эту загадку можно только путем глубокого изучения народных источников Рабле. Если Рабле кажется таким одиноким и ни на кого не похожим среди представителей «большой литературы» последних четырех веков истории, то на фоне правильно раскрытого народного творчества, напротив, – скорее эти четыре века литературного развития могут показаться чем-то специфическим и ни на что не похожим, а образы Рабле окажутся у себя дома в тысячелетиях развития народной культуры.
Рабле – труднейший из всех классиков мировой литературы, так как он требует для своего понимания существенной перестройки всего художественно-идеологического восприятия, требует умения отрешиться от многих глубоко укоренившихся требований литературного вкуса, пересмотра многих понятий, главное же – он требует глубокого проникновения в мало и поверхностно изученные области народного смехового творчества. Рабле труден. Но зато его произведение, правильно раскрытое, проливает обратный свет на тысячелетия развития народной смеховой культуры, величайшим выразителем которой в области литературы он является. Освещающее значение Рабле громадно; его роман должен стать ключом к мало изученным и почти вовсе не понятым грандиозным сокровищницам народного смехового творчества. Но прежде всего необходимо этим ключом овладеть. Задача настоящего введения – поставить проблему народной смеховой культуры средневековья и Возрождения, определить ее объем и дать предварительную характеристику ее своеобразия.
Народный смех и его формы – это, как мы уже сказали, наименее изученная область народного творчества. Узкая концепция народности и фольклора, слагавшаяся в эпоху предромантизма и завершенная в основном Гердером и романтиками, почти вовсе не вмещала в свои рамки специфической народно-площадной культуры и народного смеха во всем богатстве его проявлений. И в последующем развитии фольклористики и литературоведения смеющийся на площади народ так и не стал предметом сколько-нибудь пристального и глубокого культурно-исторического, фольклористского и литературоведческого изучения. В обширной научной литературе, посвященной обряду, мифу, лирическому и эпическому народному творчеству, смеховому моменту уделяется лишь самое скромное место. Но при этом главная беда в том, что специфическая природа народного смеха воспринимается совершенно искаженно, так как к нему прилагают совершенно чуждые ему представления и понятия о смехе, сложившиеся в условиях буржуазной культуры и эстетики нового времени. Поэтому можно без преувеличения сказать, что глубокое своеобразие народной смеховой культуры прошлого до сих пор еще остается вовсе не раскрытым.
Между тем и объем и значение этой культуры в средние века и в эпоху Возрождения были огромными. Целый необозримый мир смеховых форм и проявлений противостоял официальной и серьезной (по своему тону) культуре церковного и феодального средневековья. При всем разнообразии этих форм и проявлений – площадные празднества карнавального типа, отдельные смеховые обряды и культы, шуты и дураки, великаны, карлики и уроды, скоморохи разного рода и ранга, огромная и многообразная пародийная литература и многое другое – все они, эти формы, обладают единым стилем и являются частями и частицами единой и целостной народно-смеховой, карнавальной культуры. Все многообразные проявления и выражения народной смеховой культуры можно по их характеру подразделить на три основных вида форм: 1. Обрядово-зрелищные формы (празднества карнавального типа, различные площадные смеховые действа и пр.); 2. Словесные смеховые (в том числе пародийные) произведения разного рода: устные и письменные, на латинском и на народных языках; 3. Различные формы и жанры фамильярно-площадной речи (ругательства, божба, клятва, народные блазоны и др.). Все эти три вида форм, отражающие – при всей их разнородности – единый смеховой аспект мира, тесно взаимосвязаны и многообразно переплетаются друг с другом.
Дадим предварительную характеристику каждому из этих видов смеховых форм. Празднества карнавального типа и связанные с ними смеховые действа или обряды занимали в жизни средневекового человека огромное место. Кроме карнавалов в собственном смысле с их многодневными и сложными площадными и уличными действами и шествиями, справлялись особые «праздники дураков» («festa stultorum») и «праздник осла», существовал особый, освященный традицией вольный «пасхальный смех» («risus paschalis»). Более того, почти каждый церковный праздник имел свою, тоже освященную традицией, народно-площадную смеховую сторону. Таковы, например, так называемые «храмовые праздники», обычно сопровождаемые ярмарками с их богатой и разнообразной системой площадных увеселений (с участием великанов, карликов, уродов, «ученых» зверей). Карнавальная атмосфера господствовала в дни постановок мистерий и соти. Царила она также на таких сельскохозяйственных праздниках, как сбор винограда (vendange), проходивший и в городах.
Смех сопровождал обычно и гражданские и бытовые церемониалы и обряды: шуты и дураки были их неизменными участниками и пародийно дублировали различные моменты серьезного церемониала (прославления победителей на турнирах, церемонии передачи ленных прав, посвящений в рыцари и др.). И бытовые пирушки не обходились без элементов смеховой организации, – например, избрания на время пира королев и королей «для смеха» («roi pour rire»).
Все названные нами организованные на смеховом начале и освященные традицией обрядово-зрелищные формы были распространены во всех странах средневековой Европы, но особенным богатством и сложностью они отличались в романских странах, в том числе и во Франции. В дальнейшем мы дадим более полный и подробный разбор обрядово-зрелищных форм по ходу нашего анализа образной системы Рабле. Все эти обрядово-зрелищные формы, как организованные на начале смеха, чрезвычайно резко, можно сказать принципиально, отличались от серьезных официальных – церковных и феодально-государственных – культовых форм и церемониалов. Они давали совершенно иной, подчеркнуто неофициальный, внецерковный и внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений; они как бы строили по ту сторону всего официального второй мир и вторую жизнь, которым все средневековые люди были в большей или меньшей степени причастны, в которых они в определенные сроки жили. Это – особого рода двумирность, без учета которой ни культурное сознание средневековья, ни культура Возрождения не могут быть правильно понятыми. Игнорирование или недооценка смеющегося народного средневековья искажает картину и всего последующего исторического развития европейской культуры.
Двойной аспект восприятия мира и человеческой жизни существовал уже на самых ранних стадиях развития культуры. В фольклоре первобытных народов рядом с серьезными (по организации и тону) культами существовали и смеховые культы, высмеивавшие и срамословившие божество («ритуальный смех»), рядом с серьезными мифами – мифы смеховые и бранные, рядом с героями – их пародийные двойники-дублеры. В последнее время эти смеховые обряды и мифы начинают привлекать внимание фольклористов 2.
Но на ранних этапах, в условиях доклассового и догосударственного общественного строя, серьезный и смеховой аспекты божества, мира и человека были, по-видимому, одинаково священными, одинаково, так сказать, «официальными». Это сохраняется иногда в отношении отдельных обрядов и в более поздние периоды. Так, например, в Риме и на государственном этапе церемониал триумфа почти на равных правах включал в себя и прославление и осмеяние победителя, а похоронный чин – и оплакивание (прославляющее) и осмеяние покойника.
Но в условиях сложившегося классового и государственного строя полное равноправие двух аспектов становится невозможным и все смеховые формы – одни раньше, другие позже – переходят на положение неофициального аспекта, подвергаются известному переосмыслению, осложнению, углублению и становятся основными формами выражения народного мироощущения, народной культуры. Таковы карнавального типа празднества античного мира, в особенности римские сатурналии, таковы и средневековые карнавалы. Они, конечно, уже очень далеки от ритуального смеха первобытной общины.
Каковы же специфические особенности смеховых обрядово-зрелищных форм средневековья и – прежде всего – какова их природа, то есть каков род их бытия? Это, конечно, не религиозные обряды вроде, например, христианской литургии, с которой они связаны отдаленным генетическим родством. Организующее карнавальные обряды смеховое начало абсолютно освобождает их от всякого религиозно-церковного догматизма, от мистики и от благоговения, они полностью лишены и магического и молитвенного характера (они ничего не вынуждают и ничего не просят). Более того, некоторые карнавальные формы прямо являются пародией на церковный культ. Все карнавальные формы последовательно внецерковны и внерелигиозны.
Они принадлежат к совершенно иной сфере бытия. По своему наглядному, конкретно-чувственному характеру и по наличию сильного игрового элемента они близки к художественно-образным формам, именно к театрально-зрелищным. И действительно – театрально-зрелищные формы средневековья в значительной своей части тяготели к народно-площадной карнавальной культуре и в известной мере входили в ее состав.
Но основное карнавальное ядро этой культуры вовсе не является чисто художественной театрально-зрелищной формой и вообще не входит в область искусства. Оно находится на границах искусства и самой жизни. В сущности, это – сама жизнь, но оформленная особым игровым образом. В самом деле, карнавал не знает разделения на исполнителей и зрителей. Он не знает рампы даже в зачаточной ее форме. Рампа разрушила бы карнавал (как и обратно: уничтожение рампы разрушило бы театральное зрелище). Карнавал не созерцают, – в нем живут, и живут все, потому что по идее своей он всенароден.
Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальной. От него некуда уйти, ибо карнавал не знает пространственных границ. Во время карнавала можно жить только по его законам, то есть по законам карнавальной свободы. Карнавал носит вселенский характер, это особое состояние всего мира, его возрождение и обновление, которому все причастны.
Таков карнавал по своей идее, по своей сущности, которая живо ощущалась всеми его участниками. Эта идея карнавала отчетливее всего проявлялась и осознавалась в римских сатурналиях, которые мыслились как реальный и полный (но временный) возврат на землю сатурнова золотого века. Традиции сатурналий не прерывались и были живы в средневековом карнавале, который полнее и чище других средневековых празднеств воплощал эту идею вселенского обновления. Другие средневековые празднества карнавального типа были в тех или иных отношениях ограниченными и воплощали в себе идею карнавала в менее полном и чистом виде; но и в них она присутствовала и живо ощущалась как временный выход за пределы обычного (официального) строя жизни.
Итак, в этом отношении карнавал был не художественной театрально-зрелищной формой, а как бы реальной (но временной) формой самой жизни, которую не просто разыгрывали, а которой жили почти на самом деле (на срок карнавала). Это можно выразить и так: в карнавале сама жизнь играет, разыгрывая – без сценической площадки, без рампы, без актеров, без зрителей, то есть без всякой художественно-театральной специфики – другую свободную (вольную) форму своего осуществления, свое возрождение и обновление на лучших началах. Реальная форма жизни является здесь одновременно и ее возрожденной идеальной формой. Для смеховой культуры средневековья характерны такие фигуры, как шуты и дураки. Они были как бы постоянными, закрепленными в обычной (т.е.
Некарнавальной) жизни, носителями карнавального начала. Такие шуты и дураки, как, например, Трибуле при Франциске I (он фигурирует и в романе Рабле), вовсе не были актерами, разыгрывавшими на сценической площадке роли шута и дурака (как позже комические актеры, исполнявшие на сцене роли Арлекина, Гансвурста и др.). Они оставались шутами и дураками всегда и повсюду, где бы они ни появлялись в жизни. Как шуты и дураки, они являются носителями особой жизненной формы, реальной и идеальной одновременно. Они находятся на границах жизни и искусства (как бы в особой промежуточной сфере): это не просто чудаки или глупые люди (в бытовом смысле), но это и не комические актеры.

Итак, в карнавале сама жизнь играет, а игра на время становится самой жизнью. В этом специфическая природа карнавала, особый род его бытия. Карнавал – это вторая жизнь народа, организованная на начале смеха. Это его праздничная жизнь. Праздничность – существенная особенность всех смеховых обрядово-зрелищных форм средневековья. Все эти формы и внешне были связаны с церковными праздниками. И даже карнавал, не приуроченный ни к какому событию священной истории и ни к какому святому, примыкал к последним дням перед великим постом (поэтому во Франции он назывался «Mardi gras» или «Carêmprenant», в немецких странах «Fastnacht»).
Еще более существенна генетическая связь этих форм с древними языческими празднествами аграрного типа, включавшими в свой ритуал смеховой элемент. Празднество (всякое) – это очень важная первичная форма человеческой культуры. Ее нельзя вывести и объяснить из практических условий и целей общественного труда или – еще более вульгарная форма объяснения – из биологической (физиологической) потребности в периодическом отдыхе. Празднество всегда имело существенное и глубокое смысловое, миросозерцательное содержание. Никакое «упражнение» в организации и усовершенствовании общественно-трудового процесса, никакая «игра в труд» и никакой отдых или передышка в труде сами по себе никогда не могут стать праздничными. Чтобы они стали праздничными, к ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы духовно-идеологической.
Должностная инструкция диспетчера тепловых сетей. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.
Они должны получить санкцию не из мира средств и необходимых условий, а из мира высших целей человеческого существования, то есть из мира идеалов. Без этого нет и не может быть никакой праздничности. Празднество всегда имеет существенное отношение к времени.
В основе его всегда лежит определенная и конкретная концепция природного (космического), биологического и исторического времени. При этом празднества на всех этапах своего исторического развития были связаны с кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества и человека. Моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении. Именно эти моменты – в конкретных формах определенных праздников – и создавали специфическую праздничность праздника. В условиях классового и феодально-государственного строя средневековья эта праздничность праздника, то есть его связь с высшими целями человеческого существования, с возрождением и обновлением, могла осуществляться во всей своей неискаженной полноте и чистоте только в карнавале и в народно-площадной стороне других праздников.
Праздничность здесь становилась формой второй жизни народа, вступавшего временно в утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия. Официальные праздники средневековья – и церковные и феодально-государственные – никуда не уводили из существующего миропорядка и не создавали никакой второй жизни. Напротив, они освящали, санкционировали существующий строй и закрепляли его.
Связь с временем стала формальной, смены и кризисы были отнесены в прошлое. Официальный праздник, в сущности, смотрел только назад, в прошлое и этим прошлым освящал существующий в настоящем строй. Официальный праздник, иногда даже вопреки собственной идее, утверждал стабильность, неизменность и вечность всего существующего миропорядка: существующей иерархии, существующих религиозных, политических и моральных ценностей, норм, запретов.
Праздник был торжеством уже готовой, победившей, господствующей правды, которая выступала как вечная, неизменная и непререкаемая правда. Поэтому и тон официального праздника мог быть только монолитно серьезным, смеховое начало было чуждо его природе. Именно поэтому официальный праздник изменял подлинной природе человеческой праздничности, искажал ее. Но эта подлинная праздничность была неистребимой, и потому приходилось терпеть и даже частично легализовать ее вне официальной стороны праздника, уступать ей народную площадь.
В противоположность официальному празднику карнавал торжествовал как бы временное освобождение от господствующей правды и существующего строя, временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов. Это был подлинный праздник времени, праздник становления, смен и обновлений. Он был враждебен всякому увековечению, завершению и концу. Он смотрел в незавершимое будущее. Особо важное значение имела отмена во время карнавала всех иерархических отношений. На официальных праздниках иерархические различия подчеркнуто демонстрировались: на них полагалось являться во всех регалиях своего звания, чина, заслуг и занимать место, соответствующее своему рангу. Праздник освящал неравенство.
В противоположность этому на карнавале все считались равными. Здесь – на карнавальной площади – господствовала особая форма вольного фамильярного контакта между людьми, разделенными в обычной, то есть внекарнавальной, жизни непреодолимыми барьерами сословного, имущественного, служебного, семейного и возрастного положения. На фоне исключительной иерархичности феодально-средневекового строя и крайней сословной и корпоративной разобщенности людей в условиях обычной жизни этот вольный фамильярный контакт между всеми людьми ощущался очень остро и составлял существенную часть общего карнавального мироощущения. Человек как бы перерождался для новых, чисто человеческих отношений. Отчуждение временно исчезало. Человек возвращался к себе самому и ощущал себя человеком среди людей. И эта подлинная человечность отношений не была только предметом воображения или абстрактной мысли, а реально осуществлялась и переживалась в живом материально-чувственном контакте.
Идеально-утопическое и реальное временно сливались в этом единственном в своем роде карнавальном мироощущении. Это временное идеально-реальное упразднение иерархических отношений между людьми создавало на карнавальной площади особый тип общения, невозможный в обычной жизни. Здесь вырабатываются и особые формы площадной речи и площадного жеста, откровенные и вольные, не признающие никаких дистанций между общающимися, свободные от обычных (внекарнавальных) норм этикета и пристойности. Сложился особый карнавально-площадной стиль речи, образцы которого мы в изобилии найдем у Рабле.
В процессе многовекового развития средневекового карнавала, подготовленного тысячелетиями развития более древних смеховых обрядов (включая – на античном этапе – сатурналии), был выработан как бы особый язык карнавальных форм и символов, язык очень богатый и способный выразить единое, но сложное карнавальное мироощущение народа. Мироощущение это, враждебное всему готовому и завершенному, всяким претензиям на незыблемость и вечность, требовало динамических и изменчивых («протеических»), играющих и зыбких форм для своего выражения. Пафосом смен и обновлений, сознанием веселой относительности господствующих правд и властей проникнуты все формы и символы карнавального языка. Для него очень характерна своеобразная логика «обратности» (à l`envers), «наоборот», «наизнанку», логика непрестанных перемещений верха и низа («колесо»), лица и зада, характерны разнообразные виды пародий и травестий, снижений, профанаций, шутовских увенчаний и развенчаний. Вторая жизнь, второй мир народной культуры строится в известной мере как пародия на обычную, то есть внекарнавальную жизнь, как «мир наизнанку». Но необходимо подчеркнуть, что карнавальная пародия очень далека от чисто отрицательной и формальной пародии нового времени: отрицая, карнавальная пародия одновременно возрождает и обновляет. Голое отрицание вообще совершенно чуждо народной культуре.
Здесь, во введении, мы лишь бегло коснулись исключительно богатого и своеобразного языка карнавальных форм и символов. Понять этот полузабытый и во многом уже темный для нас язык – главная задача всей нашей работы. Ведь именно этим языком пользовался Рабле. Не зная его, нельзя по-настоящему понять раблезианскую систему образов. Но этот же карнавальный язык по-разному и в разной степени использовали и Эразм, и Шекспир, и Сервантес, и Лопе де Вега, и Тирсо де Молина, и Гевара, и Кеведо; использовали его и немецкая «литература дураков» («Narrenliteratur»), и Ганс Сакс, и Фишарт, и Гриммельсгаузен, и другие.
Без знания этого языка невозможно всестороннее и полное понимание литературы Возрождения и барокко. И не только художественная литература, но и ренессансные утопии, и само ренессансное мировоззрение были глубоко проникнуты карнавальным мироощущением и часто облекались в его формы и символы. Несколько предварительных слов о сложной природе карнавального смеха. Это прежде всего праздничный смех. Это, следовательно, не индивидуальная реакция на то или иное единичное (отдельное) «смешное» явление. Карнавальный смех, во-первых, всенароден (всенародность, как мы говорили уже, принадлежит к самой природе карнавала), смеются все, это – смех «на миру»; во-вторых, он универсален, он направлен на все и на всех (в том числе и на самих участников карнавала), весь мир представляется смешным, воспринимается и постигается в своем смеховом аспекте, в своей веселой относительности; в-третьих, наконец, этот смех амбивалентен: он веселый, ликующий и – одновременно – насмешливый, высмеивающий, он и отрицает и утверждает, и хоронит и возрождает.
Таков карнавальный смех. Отметим важную особенность народно-праздничного смеха: этот смех направлен и на самих смеющихся. Народ не исключает себя из становящегося целого мира. Он тоже незавершен, тоже, умирая, рождается и обновляется. В этом – одно из существенных отличий народно-праздничного смеха от чисто сатирического смеха нового времени. Чистый сатирик, знающий только отрицающий смех, ставит себя вне осмеиваемого явления, противопоставляет себя ему, – этим разрушается целостность смехового аспекта мира, смешное (отрицательное) становится частным явлением. Народный же амбивалентный смех выражает точку зрения становящегося целого мира, куда входит и сам смеющийся.
Подчеркнем здесь особо миросозерцательный и утопический характер этого праздничного смеха и его направленность на высшее. В нем – в существенно переосмысленной форме – было еще живо ритуальное осмеяние божества древнейших смеховых обрядов. Все культовое и ограниченное здесь отпало, но осталось всечеловеческое, универсальное и утопическое. Величайшим носителем и завершителем этого народно-карнавального смеха в мировой литературе был Рабле.
Его творчество позволит нам проникнуть в сложную и глубокую природу этого смеха.

Хронотоп, 1998, № 4 102 103 Dialogue. Chronotope, 1998, № 4 Л.Е.Пинский Отзыв о книге М.М.Бахтина «Творчество Рабле и проблема народной культуры средневековья и Ренессанса» 1 Работа М.М.Бахтина выдающееся явление во всей современной критической литературе, и не только на русском языке. Интерес этого исследования по меньшей мере троякий. Во-первых, это вполне оригинальная и захватывающего интереса монография о Рабле. М.М.Бахтин с полным основанием настаивает на монографическом характере книги (стр.23), хотя в ней и отсутствуют особые главы о биографии писателя, о мировоззрении, гуманизме, языке и т.д. все эти вопросы освещены в разных разделах книги, посвященной в основном смеху Рабле. Чтобы оценить значение этого труда, надо учесть исключительное положение Рабле в европейской литературе. Уже с ХVII века Рабле пользуется репутацией писателя «странного» и даже «чудовищного».
С веками «загадочность» Рабле лишь возрастала, и Анатоль Франс назвал в своих лекциях о Рабле его книгу «наиболее причудливой в мировой литературе». Современная французская раблеистика всё чаще говорит о Рабле как о писателе «не столько неправильно понятом, сколько просто непонятном» (Лефевр), как о представителе «дологического мышления», недоступном современному пониманию (Л. Надо сказать, что после сотен исследований о Рабле он всё же остается «загадкой», каким-то «исключением из правила», и М.М.Бахтин с полным правом замечает, что нам «о Рабле хорошо известно то, что малосущественно» (стр.23). Один из самых знаменитых писателей, Рабле, надо признаться, едва ли не самый «трудный» и для читателя, и для литературоведа. Своеобразие рецензируемой монографии в том, что автор нашел новый подход к изучению Рабле.
До него исследователи исходили из магистральной линии западноевропейской литературы начиная с древних веков, понимая Рабле как одного из корифеев этой линии и привлекая фольклорные традиции лишь в качестве одного из источников творчества Рабле что всегда приводило к натяжкам, так как роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» не укладывался в «высокой» линии европейской литературы. М.М.Бахтин, напротив, видит в Рабле вершину всей «неофи циальной» линии народного творчества 2, не столько мало исследованной, сколько плохо понятой, роль которой значительно возрастает при исследовании Шекспира, Сервантеса, Боккаччо, но особенно Рабле. «Неистребимая неофициальность Рабле» (стр.32) вот в чем причина загадочности Рабле, которого рассматривали лишь на фоне магистральной линии литературы его века и последующих веков. Здесь нет нужды излагать концепцию «гротескного» реализма 3 народного творчества, раскрытую в этой книге. Достаточно взглянуть на оглавление, чтобы увидеть совершенно новый круг проблем, раньше почти не встававших перед исследователями и составляющих содержание книги. Скажу только, что благодаря такому освещению все в романе Рабле становится удивительно естественным и понятным.
По меткому выражению исследовате ля, Рабле оказывается «у себя дома» в этой народной традиции, обладающей своим особым пониманием жизни, особым кругом тем, особым поэтическим языком. Термин «гротеск», обычно применяемый к творческой манере Рабле, перестает быть «манерой» сверхпарадоксального писателя, и уже не приходится говорить о своевольной игре мысли и необузданной фантазии причудливо го художника. Вернее, сам термин «гротеск» перестает быть козлом отпущения и «отпиской» для исследователей, которые по сути не были в состоянии объяснить парадоксальность творческого метода. Сочетание космической широты мифа с острой злободневностью и конкретностью сатирического памфлета, слияние в образах универсализма с индивидуализацией, фантастики с поразительной трезвостью и т.д. находят у М.М.Бахтина вполне естественное объяснение. То, что раньше воспринималось как курьез, выступает как привычные нормы тысячелетнего искусства.
Я сам занимался Рабле много лет, мне известны основные работы о нём в зарубежном литературоведении, но я должен сказать, что никому еще не удавалось дать такую убедительную интерпретацию Рабле. Во-вторых, перед нами замечательный труд, посвященный народной поэзии средних веков и Возрождения, фольклорному искусству добуржуазной Европы. Новое в этой книге не её материал, о котором существует множество тщательно выполненных исследований автор знает эти источники и приводит их, но достоинство работы не в обнаруживаемой традиции. Так же, как в изучении Рабле, здесь дано новое освещение этого материа АРХИВНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ Л.Е.Пинский Отзыв о книге М.М.Бахтина. Хронотоп, 1998, № 4 104 105 Dialogue. Chronotope, 1998, № 4 ла. Автор исходит из ленинской концепции существования двух культур в каждой нации.

В народной культуре (которая «прорвалась» в высокую литературу с наибольшей полнотой именно у Рабле) он выделяет сферу комического творчества, «карнаваль ную» стихию с её особым мышлением и образами, противопо ставляет её официально-серьёзному искусству господствующих классов в средние века (не только феодальному, но и ранне-буржуазному), а также позднейшей литературе буржуазного общества. Характеристика «гротескного реализма» представляет при этом исключительный интерес (см., например, сравнение «гротескного тела» и «нового тела» на стр.478491) 4. Значение народности для мирового искусства при такой интерпретации по-новому возрастает и выходит далеко за пределы вопроса о творчестве Рабле.
Перед нами по сути типологическая работа: противопоставление двух типов художественного творчества фольклорно-гротескного и литературно-художествен ного 5. В гротескном реализме, как показывает М.М.Бахтин, выражено народное ощущение хода времени.
Это «народный хор», сопровождающий действие мировой истории, и Рабле выступает «корифеем» народного хора своего времени (стр.736). Роль неофициальных элементов общества для подлинно реалистическо го творчества (о чем пишут Маркс и Энгельс в известном разборе трагедии Лассаля) раскрывается в работе М.М.Бахтина совершенно по-новому и с замечательной силой. В немногих словах его мысль сводится к тому, что в народном творчестве веками и в стихийной форме подготавливалось то материалистическое и диалектическое чувство жизни, которое приняло научную форму в новейшее время. В последовательно проведённом принципе историзма и в «содержательности» типологического контраста главное преимущество М.М.Бахтина перед типологическими схемами формалистов искусствоведов ХХ века на Западе (Вёльфлин, Воррингер, Гаман и др.). Замечу также, что особый интерес представляет работа Бахтина для проблемы реализма в искусстве, как известно, весьма спорной и актуальной в наше время. Работа проникнута мыслью о величии реалистического искусства, о его извечности, его громадном значении для всех эпох. Автор отстаивает «освещающую» роль Рабле для тысячелетия развития неофициального искусства средних веков, но его работа представляет также немалый интерес для понимания литературы поздней античности, Востока, как и для литературы нового времени, которая, по его выражению, вся «усеяна обломками» народного гротескного реализма, впервые охарактеризованного в этой книге.
Краткое Содержание На Дне
В частности, изучающего русскую литературу заинтересуют страницы, посвященные связи Гоголя с гротескным реализмом (к сожалению, они отсутству ют в настоящей редакции работы, но они имелись в первоначаль ной, хранящейся в архиве Института мировой литературы) 6. В-третьих, рецензируемая работа ценный вклад в общую теорию и историю комического. Анализируя роман Рабле, Бахтин исследует природу так называемого «амбивалентного» смеха, отличного от сатиры и юмора в обычном смысле слова, а также от других видов комического. Это смех стихийно-диалекти ческий, в котором возникновение и исчезновение, рождение и смерть, отрицание и утверждение, брань и хвала неразрывно связаны как две стороны одного процесса возникновения нового и живого из старого и отмирающего. В связи с этим исследова тель останавливается на характере фамильярного смеха в неофициальных жанрах устного и письменного слова, в частности, в ругательствах, раскрывая его корни, его смысл, в настоящее время не вполне сознаваемый.
Изучение этого материала, столь важного для романа Рабле, особенно в связи с устанавливаемой фольклорной основой его творчества, носит строго научный характер, и было бы ханжеством усомниться в необходимости такого изучения. Роль смеха как «повивальной бабки новой серьёзности» (стр.12), освещение «геркулесовой работы» смеха по очищению мира от чудовищ прошлого отмечено замечательным историзмом в понимании комического 7. Превосходство развиваемой теории гротеска сравнительно с концепцией Шнееганса, наиболее известной по этому вопросу, на мой взгляд, несомненно. Теория амбивалентного смеха, величайшим мастером которого, как показывает исследователь, является Рабле, заинтересует, несомненно, всякого, кто занимается общими проблемами эстетики. Наиболее ценное в этой теории смеха, так же как и в отмеченной выше типологии искусства, содержательность категории комическо го, преодоление формализма, которым страдает трактовка комического в буржуазной эстетике и, в частности, в анализе гротеска. Нет возможности в издательской рецензии отметить все проблемы, поднятые в этой работе, богатой тонкими замечаниями АРХИВНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ Л.Е.Пинский Отзыв о книге М.М.Бахтина.
Хронотоп, 1998, № 4 106 107 Dialogue. Chronotope, 1998, № 4 по самым различным вопросам.
Для всякого исследователя литературы Возрождения будет плодотворным понимание икусства XVI века как стыка народного гротескного реализма, вышедшего в эту переходную эпоху в большую литературу, с возникающим под влиянием античности классицизмом и новым реализмом. Роль Рабле для понимания Сервантеса, Шекспира и других художников нового времени здесь также освещающая. Особо отмечу тонкость анализа языка Рабле (гротескное слияние собственного и нарицательного значений в лексике), а также самой проблемы формирования новых литературных языков. Достаточно богатая по фактическому материалу, книга Бахтина представляет собой прежде всего работу концептуальную. Освещение самых различных проблем с неумолимой логикой вытекает из одной основной мысли, ясно сформулированной уже в первой главе.
Отсюда и построение работы, где мысль развивается концентрически, а не поступательно 8. По сути в каждой главе дана вся концепция, но она обогащается каждый раз новыми аспектами. Доказательством выдвигаемой новой теории служит плодотворность и последовательность единой мысли в разрешении самых различных вопросов, возникающих в связи с изучением романа Рабле. В работе подобного типа не все моменты цельной теории могут быть одинаково бесспорными.
Это исследовательская монография, в которой автор избегает шаблонов и проторенных дорожек и нарушает многие привычные представления. Но бесспорное и спорное, привычное и непривычное (например, с одной стороны, народность Рабле, его гуманизм, физиологизм, карнавальное начало его смеха, то, к чему читатель уже подготовлен предыдущими исследованиями, а с другой стороны, специфический язык народно-реалистической символики, концепция «материально-телесного низа») составляют неразрывное целое. Огромная аргументация, множество привлеченных литературных и фольклорных материалов, особая природа фольклорного творчества, о которой знает каждый этнограф, заставляют каждого непредубежденного читателя считаться с развиваемой концепцией, имеющей все права подлинно научной теории.
Разумеется, всегда найдется рецензент, который не согласится с тем или другим из основных положений этой работы, но она вполне заслуживает того, чтобы подвергнуться обсуждению уже в качестве напечатанной работы, а не рукописи 9. Перед нами исследование в 40 печ л 10, которое автор скромно считает только первым шагом в изучении большого вопроса о народном неофициальном искусстве прошлого (стр.735).
Он сам готов допустить, что в решении поднятого им вопроса, возможно, не всё вполне правильно; но он настаивает на важности этой задачи. Трудно с ним не согласиться.
Но если бы вместо сорока печ л он представил четыреста листов, не сомневаюсь, что любители протоптанных дорожек нашли бы его дорогу недостаточно утоптанной. Разумеется, куда легче привести ещё сотни фактов в подтверждение того, что Рабле «был гуманистом» и «его роман был связан с народным творчеством». Отмечу также яркое изложение и местами блестящий образный стиль в освещении сложных эстетических вопросов книгу с одинаковым интересом прочтет и специалист, и любознатель ный читатель; по своему содержанию, как и по форме, она отличается от обычных работ академического типа. Ни её размеры, ни исследовательский характер не могут служить препятствием для того, чтобы она вышла в Государственном издательстве художественной литературы, которое в своё время выпустило труд К.Н.Державина о Сервантесе, не менее объёмистый, но гораздо более специальный и довольно сухо написанный 11. Работа имеет форму диссертации на соискание научной степени и нуждается в некоторой шлифовке.
Это относится прежде всего к обильным цитатам на иностранных языках их надо перевести, как и названия цитируемых произведений. Выше уже отмечен концентрический характер развития мысли, который приводит к частым повторениям одних и тех же положений и фраз. В какой-то мере это можно устранить, хотя и не до конца повторения вытекают из композиции работы и связаны также с нагнетающей манерой изложения, по интонации близкой к устному слову. Законченная в основном в тридцатых годах (что видно по приведенным в библиографии работам), рукопись, видимо, подверглась в сороковых годах существенной переработке.
Отсюда обилие примечаний, которые, очевидно, являются позднейшими дополнениями, они затрудняют чтение, но легко могут быть перенесены в основной текст (см. Стр.116, 175, 178, 179, 187 и т.д.). Близость к устному слову сказывается и в обилии подчеркнутых мест, количество которых надо сократить. АРХИВНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ Л.Е.Пинский Отзыв о книге М.М.Бахтина. Хронотоп, 1998, № 4 108 109 Dialogue.
Chronotope, 1998, № 4 Полемику с работами Н.Я.Берковского тридцатых годов также можно сократить и свести к нескольким возражениям общего характера, дополнив оценкой советских работ последних десятилетий о реализме 12. В рукописи встречаются стилистичес кие небрежности: «Он (Рабле Л.П.) оказался пробным камнем для тех сторон Просвещения, в которых сказалась его (Просвещения Л.П.) буржуазная ограниченность» (стр.179). На стр.328 mardi gras, то есть «жирный вторник» (вторник перед великим постом), переведено ошибочно как «чистый вторник» (вторник первой недели поста).
В нашей прессе уже высказывалось удивление, что ценная работа М.М.Бахтина, написанная свыше 20 лет тому назад и удостоенная, насколько мне известно, самых лестных отзывов со стороны известных учёных, представителей разных областей науки, остаётся без продвижения 13. Появление её в печати было бы важным событием для всего раблеведения, ибо ни в советской, ни в зарубежной литературе нет работы, равной ей по значению. Публикуемый текст является т. «внутренней» рецензией на книгу М.М.Бахтина о Рабле, написанной Л.Е.Пинским для издательства «Художественная литература». Рецензия датирована 12 октября 1962 года и хранится в РГАЛИ (фонд 613, «Художественная литература», оп.10, ед. Хр.6003, авторское дело «Бахтин М.М.
'Творчество Ф.Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса'. Монография», лл.2028; машинопись). Она сыграла весьма положительную роль в тот момент, когда издательство решало вопрос, печатать ли рукопись, пролежавшую почти 20 лет в архиве Института мировой литературы (об истории публикации книги см. Устные воспоминания редактора «Художественной литературы» С.Л.Лейбович, а также комментарии к ним в №1 нашего журнала за 1998 год, с.140186). Позднее текст рецензии в переработанном виде дважды выходил из печати: сначала на страницах «Вопросов литературы» (1966, №6, с.200206) под названием «Рабле в новом освещении», а затем в посмертно изданной книге Пинского «Магистральный сюжет» (М.: «Советский писатель», 1989, с.358366), будучи озаглавлен «Новая концепция комического».
Между тем представляет интерес не только видоизмененная автором для журнальной публикации, но и изначальная, доселе не публиковавшаяся, вер сия рецензии на знаменитую книгу. При всем том, что пафос, аргументация, логика рассуждений, стиль рецензии в принципе остались прежними, некоторые положения при переработке были добавлены либо развернуты, а, главное, кое-что получило несколько другую формулировку. Все эти трансформации отражают не только развитие взглядов Пинского на «Творчество Рабле», но и что для нас в данном случае особенно важно эволюцию самого замысла Бахтина, динамику движения от одной редакции книги к другой. Пинский рецензирует здесь вариант, относящийся к концу 1940-х годов, когда книга, по настоянию экспертов ВАК, была подвергнута существенной переработке.
Пример уведомления о переводе долга. Именно поэтому существует понятие- чем больше реквизитов, тем лучше. В документе все моменты оговорены заранее и уже не возникает возможности уклонения от уплаты. Итак, документ-соглашение должен содержать следующие реквизиты: • Предмет сделки. Образец письма переуступки долга. Требования Законами в России не устанавливается конкретика по оформлению документов.
Отправляя этот текст (за неимением первой редакции) в «Художественную литературу» в июле 1962 года, Бахтин, по собственному признанию, «пришел в совершенный ужас» от «отвратительной вульгарщины» в духе послевоенных лет и просил В.В.Кожинова «предупредить редакцию о той обстановке», в которой переделывалась диссертация («Москва», 1992, №1112, с.180181). Кожинов выполнил эту просьбу, предупредив также и Пинского. Через неделю он отвечал Бахтину: «В середине августа ее рукопись Н.П.
собирается (уже договоренность есть) взять на рецензию Пинский. Опять-таки не беспокойтесь, что он что-либо не так поймет я все ему объясню» (письмо от 12.VII.1962, архив М.М.Бахтина). И рецензент, конечно (так как и сам много чего пережил в начале 50-х), с пониманием отнесся к ситуации, тем более, что он еще в 1960 году узнал и высоко оценил «Рабле» (см.: «Диалог. Хронотоп», 1994, №2, с.108), сделавшись, по словам Кожинова, «одним из самых горячих поклонников» книги (письмо к Бахтину от 23.II.1961). Искренняя симпатия к автору рецензируемого труда, стремление помочь в благородном деле (а отчасти жанровые каноны и узкие рамки издательской рецензии) побудили Пинского воздержаться от концептуального спора с бахтинской теорией карнавала.
Ограничившись здесь всего лишь несколькими относительно мелкими замечаниями, чтобы не помешать обнародованию рукописи, он в неофициальной обстановке много раз (помимо комплиментов) говорил и об уязвимости выдвинутой Бахтиным концепции. Увы, эти соображения письменно так и не были изъяснены, да и то, что прозвучало из уст Пинского на сей счет, по-видимому, также пропало втуне: не только у Бахтина, АРХИВНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ Л.Е.Пинский Отзыв о книге М.М.Бахтина.
Хронотоп, 1998, № 4 110 111 Dialogue. Chronotope, 1998, № 4 но и у него не оказалось своего Эккермана. Впрочем, некоторые ключевые аспекты полемических рассуждений Пинского все-таки достигли наших дней. По воспоминаниям его вдовы, Е.М.Лысенко, во время своих встреч с Бахтиным «в основном говорил Леонид Ефимович. Михаил Михайлович помалкивал, а время от времени произносил что-то веское и очень интересное. Леонид Ефимович находил, что у Михаила Михайловича в книге о Рабле есть какая-то внеисторичность, что открытая им смеховая культура низов как-то накладывается на все эпохи и теряет свою специфику средневековую и времен Ренессанса» («Диалог.
Хронотоп», 1994, №2, с.109110). В письмах Кожинова к Бахтину также время от времени упоминается об этой научной коллизии: «Пинский соглашается быть научным редактором. Он считает Вашу книгу гениальной и самой глубокой в русском литературоведении. Правда, в то же время он считает ее односторон ней» (23.VI.1962); «мы несколько раз говорили с ним о Вашей книге, и он делал интересные замечания (в частности, критические со своей, субъективной позиции)» (б.д.; начало 1963 года). Наконец, и в сохранившемся письме А.А.Смирнова к Пинскому от 25.XI.1960 года, так сказать, «в зеркальном отражении» фигурируют те же «недостатки» книги: «То, что Вы пишете о 'Рабле' М.Бахтина, меня глубоко порадовало. Я тоже изумлен значитель ностью работы.
Да, это новый материк. Но вместе с тем Вы глубоко правы, говоря об односторонности и ограниченности этой работы» («Диалог. Хронотоп», 1994, №2, с.108109). Бахтин принял критику своего собрата по исследованию средневековья и Ренессанса, о чем свидетельствуют его письма к Пинскому, в особенности письмо от 21.II.1963 года. Сначала Бахтин апеллирует к публикуемому сейчас тексту рецензии: «Не умею выразить Вам всю мою благодарность за Вашу рецензию я был поражен глубиною и верностью Вашего понимания моих замыслов (выраженных у меня в работе не всегда вразумительно)».
Краткое Содержание Капитанская Дочка
Но затем для перехода к признанию уже знакомой нам «односторон ности» своей концепции (о чем нет ни слова в рецензии) Бахтин ссылается уже на книгу Пинского «Реализм эпохи Возрождения»: «Зная Вашу книгу, я должен предположить, что у Вас есть и другие существенные замечания методологического характера. В частности, я должен признать несколько односторонний характер моей работы: общие особенности языка народно-смеховой культуры общие для целого тысячелетия до некоторой степени растворили в себе специфические черты эпохи Рабле и его творческую индивидуальность» («Диалог. Хронотоп», 1994, №2, с.58). Вероятно, Бахтин в этом письме, расшифровы вая свое понимание тезиса об «односторонности», реагирует не только на книгу «Реализм эпохи Возрождения», но также и на сообщенную Кожиновым информацию о восприятии Пинским «Рабле».
Первая личная встреча между ними, во время которой Пинский, надо думать, исчерпывающе объяснил, в чем заключается, по его мнению, этот недостаток выдающейся работы, состоялась в январе 1964 года (см.: «Диалог. Хронотоп», 1994, №2, с.109) Нельзя не отметить, впрочем, что, критикуя бахтинскую теорию карнавала за некоторую внеисторичность, за тенденцию к размыванию специфики средневековья и Ренессанса в смеховой стихии, Пинский в то же время, кажется, испытал на себе определенное воздействие Бахтина, выразившееся в концепции «извечного архаического смеха». В написанной для «Краткой литературной энциклопедии» статье «Юмор» (1975) он довольно неожиданно (в свете своей критики Бахтина) утверждает, что «комическое у Рабле и Шекспира» «непосредственно связано с извечным архаическим смехом», противопоставляя обоих названных писателей Сервантесу, у которого юмор «сугубо подсказан историческим моментом кризисом испанской националь ной культуры и всеевропейским кризисом гуманизма » (см.: Пинский Л.Е.
Краткое Содержание Горе От Ума
«Магистральный сюжет». М., 1989, с.354).
При этом говорится с отсылкой к бахтинскому «Рабле» о синкретическом, универсальном, коллективном, положительном характере «архаического» смеха, к которому возводятся все разновидности комического (т.е. Фактически подхватывается фундаментальная установка Бахтина при его прочтении Рабле): «Генетически юмор восходит к известному с незапамятных времен у всех народов обрядово-игровому, народно-праздничному, собственно 'комическому' смеху, в котором потенциально или эмбрионально заложены все основные виды комического, обособившиеся затем в ходе развития культуры» ( Пинский Л.Е. «Магистральный сюжет», с.351). Таким образом, несмотря на покаяние Бахтина, выдвинутая и описанная им категория «языка народно-смеховой культуры», общего «для целого тысячелетия», предстает не только как знак «односторонности» и «внеисторичности» толкования рома АРХИВНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ Л.Е.Пинский Отзыв о книге М.М.Бахтина. Хронотоп, 1998, № 4 112 113 Dialogue.
Chronotope, 1998, № 4 на Рабле, но и как вполне продуктивная научная идея, позволяющая достаточно адекватно изучать истоки многих современных литературных явлений. И Пинский, как это видно из публикуемо го первоначального текста рецензии, явно склоняясь (быть может, под влиянием расхожих методологических принципов советского литературоведения) к конкретно-историческому рассмотрению «Гаргантюа и Пантагрюэля», все же не мог не оценить и большого потенциала тех обобщенно-типологических тенденций Бахтина, против крайностей в реализации которых он, судя по всему, выступал (ср. Пассаж, добавленный Пинским при подготовке рецензии к печати: «Нельзя не отметить особую силу обобщения в этом исследовании, где самые различные по значению виды карнаваль ного и 'карнавализованного' смеха от мирообъемлющих до шутливо игровых поняты в своем единстве и взаимосвязи» Пинский Л.Е. «Магистральный сюжет», с.364). Выражаю искреннюю благодарность Е.М.Лысенко за разрешение на публикацию текста рецензии. Благодарю также Белорусский республиканский Фонд фундаментальных исследова ний за поддержку в работе над данной публикацией. 1 Это заглавие (вместо предыдущего «Ф.Рабле в истории реализма») Бахтин дал своей работе в 1950 году (см.
Его «Письмо в экспертную комиссию при ВАКе»: ГАРФ, ф.9506, оп.73, ед. Хр.71, л.29). Как известно, впоследствии слово «проблема» будет изъято, и заглавие книги приобретет следующий вид: «Творчест во Ф.Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (были, правда, еще колебания относительно вариантов «Ренессанса» «Возрождения» (см. Примечания к уже упоминавшимся устным воспоминаниям С.Л.Лейбович: «Диалог.
Хронотоп», 1997, №1, с.183). Кроме того, в заглавии публикующейся рецензии фигурировало указание на количество страниц (747) в книге Бахтина, которое убрано при подготовке текста к печати как не характерная для заглавий деталь. 2 Примечательно, что при переработке рецензии Пинский не изменит (см.: Пинский Л.Е. «Магистральный сюжет», с.359) структуру данного противопоставления: магистральная линия литературы неофициальная линия народного творчества (логичнее было бы: магистральная неофициальная линия литературы; в самом деле представима ли официальная или даже ма гистральная линия народного творчества?!). В дальнейшем, как мы увидим, он будет испытывать определенные колебания относительно того, как оценивать роль фольклорного начала (или, по терминологии А.Н.Веселовского, «предания»; см. Публикующиеся в настоящем номере статьи С.Н.Бройтмана, Н.Д.Тамарчен ко и Л.В.Чернец) у Рабле (и соответственно у Бахтина). Оставив упоминания о «фольклорной основе» творчества Рабле ( Пинский Л.Е.
«Магистральный сюжет», с.363), об «общепонят ных приемах извечного народного творчества» в «Гаргантюа и Пантагрюэле» (с.360), об «особой природе фольклорного творчества», раскрытой в книге Бахтина о Рабле (с.366), он вместе с тем пересмотрит формулировку, определяющую тип искусства, к которому Рабле принадлежит, как « фольклорно -гротескный» (см. 3 В ранней редакции «Рабле» (1940) понятие «гротескный реализм» находилось на втором плане, эпизодически замещая (как второстепенный синоним) гораздо более важные категории «готического» и «фольклорного реализма». Этот семантический сдвиг в категориальной системе книги Бахтина (еще более явственный в каноническом тексте 1965 года) пока не исследован; Пинский обратил на него внимание (о чем пойдет речь далее), но по тем или иным причинам не стал разбираться с ним сколь бы то ни было основательно. 4 При переработке рецензии Пинский убрал из текста упоминание ленинской теории «двух культур в каждой национальной культуре» и заметно расширил этот абзац, добавив рассуждение о значениии «извечного архаического смеха» в средневековую эпоху: «Автор исходит из 'двумирности средневековой культуры' (с.8), особой двумирности, отличной от двумирности в других обществах, например, в буржуазном. В неофициальной народной культуре он выделяет сферу комического творчества, 'празднич но карнавальную' стихию с её особым видением мира и особым языком. Характеристике 'карнавального' творчества (в широком смысле слова, куда входит и все 'рекреативное', связанное с досугом), его внецерковного, внегосударственного, внекорпоративно го духа, его универсального, миросозерцательного, утопического смеха, его идеалов свободы, равенства, изобилия, его откровенно го, фамильярно- бесстрашного тона посвящена большая часть этой книги.
Прослеживается огромное влияние карнавального мироощущения, которое проникает даже в религию, особенно в АРХИВНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ Л.Е.Пинский Отзыв о книге М.М.Бахтина. Хронотоп, 1998, № 4 114 115 Dialogue.
Chronotope, 1998, № 4 еретические или полуеретические течения например, шутовской элемент в раннем францисканстве, служение Богу с 'веселым сердцем'. Свободные 'смеховые' формы карнавального 'мира наизнанку' противостояли, как показывает автор, догматически серьезному мышлению, строгой важности общественной иерархии. М.М.Бахтин приводит любопытнейшие свидетельства о том, как защитники карнавального 'мира наизнанку' отстаивали свои привилегии, свое право на легальное или полулегальное существова ние (ссылаясь в духе христианского дуализма на неисправимую 'глупость' и 'греховность' человеческой натуры) в борьбе с мрачными 'агеластами', врагами смеха» ( Пинский Л.Е. «Магистраль ный сюжет», с.360361). 5 В опубликованном тексте этот фрагмент приобрел следующий вид: «Перед нами, по сути, исследование одновременно социально-историческое (художественная традиция определенной среды и эпохи) и типологическое: противопоставление, особенно в изображении тела, двух типов искусства карнавально-гро тескного и новоевропейского (последних четырех эпох)». К определению работы Бахтина как «типологической» добавилась констатация и ее социально-исторического характера, причем, что особенно любопытно, два отмеченных типа искусства (или художественного творчества) названы по-другому, чем в публикуемой сейчас первоначальной версии рецензии: «фольклорно -гротескный» тип превратился в «карнавально-гротескный», а «литературно-художественный» в «новоевропейский». Таким образом, намеченная выше см.
Примечание 1 оппозиция литература народное творчество оказалась фактически дезавуированной, а типологический аспект не только получил социально-истори ческого визави, но и сам по себе еще дополнительно «разбавил ся» сильной примесью социального историзма, поскольку в характеристике «новоевропейского» типа (искусство «последних четырех эпох») уровень обобщения несколько снижен и типологические «параметры» просто сведены к хронологии ( позже, чем «карнавально-гротескный»). Разумеется, все это было проделано Пинским не произвольно, он отражал реальные изменения в расстановке акцентов, имевшие место при переработке «Рабле». Бахтин по разным мотивам и причинам (это отдельная тема) редуцировал значимость понятий «фольклор» и «фольклорный реализм». В каноническом тексте упоминания о фольклоре стали единичны, тогда как прежде (особенно в первой редакции) это слово пестрело буквально на каждой странице: соответствующие пассажи либо убраны совсем, либо перефразированы так, чтобы обойтись без апелляции к фольклору.
Если опять воспользоваться формулировками А.Н.Веселовского, то можно сказать, что роль «предания» в «личном творчестве» Рабле интересовала Бахтина в ранней редакции существенно больше, чем в канонической. Пинский, будучи тонким, внимательным читателем, отреагиро вал на этот семантический сдвиг в категориальной системе «Рабле»; теперь задача современных исследователей тоже достаточно глубоко вникнуть в книгу Бахтина, учитывая ее творческую историю и динамику развития замысла (см. В этой связи: Паньков Н.А.
М.М.Бахтин: ранняя версия концепции карнавала // «Вопросы литературы», 1997, №5, с.87122). 6 Бахтин в уже цитировавшемся письме от 23.II.1963 ответил на этот тезис Пинского: «При переработке книги я, конечно, восстановлю страницы о Гоголе и даже несколько их расширю» («Диалог. 1994, №2, с.59). Однако этим планам не суждено было сбыться: книга вышла в 1965 году без раздела «Рабле и Гоголь», опубликованного впервые лишь несколько лет спустя («Контекст. М.: Наука, 1973, с.248259). 7 В опубликованном тексте Пинский попытался расшифровать свое понимание историзма в подходе к комическому: «В эпоху Ренессанса нерушимую иерархическую вертикаль средневеко вого официального представления о космосе ('Великую Цепь Бытия') сменила историческая горизонталь: движение во времени.
В гротескной концепции тела, переживающего становление, в народно праздничных играх, предметом которых был веселый ход времени, рождалось новое историческое чувство жизни и представление о прогрессе человечества» ( Пинский Л.Е. «Магистральный сюжет», с.363). Однако эта формулировка кажется слишком общей и неопределенной, чтобы можно было счесть ее проясняющей суть проблемы. Как в «гротескной концепции тела» (т.е. «архаическом смехе») могло рождаться «новое историческое чувство» (ведь сам Пинский чуть выше отчетливо противопос тавил карнавально-гротескный тип искусства новоевропейско му)?
Почему это произошло лишь в эпоху Ренессанса (ведь «неготовость» и постоянное становление «родового тела» отличали его с древнейших времен, но это не приводило к возникновению категории прогресса)? 8 Эта формула была почему-то снята Пинским при публи АРХИВНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ Л.Е.Пинский Отзыв о книге М.М.Бахтина. Хронотоп, 1998, № 4 116 117 Dialogue. Chronotope, 1998, № 4 кации, хотя она довольно проницательно и афористично характеризует научную манеру Бахтина (ср. Совершенно иное по пафосу и тону, но парадоксально верное суждение Ольги Седаковой: «Он Бахтин повторяет сто раз одно и то же в продолжение одной работы и обрывки дают ему ту же степень авторского удовлетворения, что и целая вещь, которая крутится, как на заколдованном месте, и не сдвигается вперед» // «Новый круг», 1992, №1, с.116).
9 Проницателен Пинский и в своих предположениях о судьбе книги Бахтина после ее публикации: «Легко предвидеть, что оригинальные и блестяще аргументированные идеи исследования М.М.Бахтина могут стать 'модными', что неумеренные поклонники попытаются придать им чуть ли не универсальный характер. Никакая теория не гарантирована от вульгаризации. Что касается автора, то он достаточно четко указал пределы 'карнавального', 'гротескного', 'амбивалентного' мировоззрения, которое не распространяется ни на серьезные формы эпоса, лирики и драмы фольклорного происхождения, ни на трагедии Шекспира с их 'сосуществованием серьезного и смехового аспекта мира' (с. Прослеживая судьбу гротеска в веках, М.М.Бахтин отличает Рабле по характеру смеха от таких мастеров комического в литературе ХVII века, как Тирсо де Молина, Гевара, Кеведо, Гриммельсхаузен, которые пользуются материалом, приемами карнавала и его языком с иной, чисто сатирической целью (например, 'сатира Кеведо носит чисто отрицательный характер').
От народно-реалистического гротеска отличается 'пугающий' и 'ночной' гротеск романтический, построенный на резко статическом контрасте, на застывшей антитезе, а тем более гротески А.Жарри и сюрреалистов или добавлю от себя Ф.Кафки» ( Пинский Л.Е. «Магистральный сюжет», с.365). Естественно, этот пассаж имеет прямое отношение не только к феномену «моды» на Бахтина, но и к не решенной пока проблеме типологизма/историзма «Рабле» (насколько «универсальный» характер присущ обобщениям, сделанным в книге) 10 Поскольку книга Бахтина при подготовке к печати была заметно сокращена, то в опубликованном варианте рецензии здесь говорится о 30 печатных листах ( Пинский Л.Е. «Магистраль ный сюжет», с.366).
11 Этот аргумент, призванный оказать «давление» на сотрудников «Художественной литературы», при публикации был опущен. 12 Полемика с работами Н.Я.Берковского, изданными в 1930-е годы (введением к сборнику «Эволюция и формы раннего реализма на Западе» и статьей «Реализм буржуазного общества и вопросы истории литературы»), была совсем изъята Бахтиным из окончательного текста книги. Что до новейших советских работ о реализме, то Бахтин ограничился только обзором работ, посвященных Рабле (при этом достаточно много внимания было уделено соответствующему разделу книги Пинского «Реализм эпохи Возрождения»). 13 Имеется в виду письмо В.В.Виноградова, Н.М.Любимова, К.А.Федина в «Литературную газету», опубликованное там 23 июня 1962 года под названием «Книга, нужная людям».
Это письмо было «организовано» В.В.Кожиновым, который к тому времени успел и сам в статье «Научность это связь с жизнью» публично выразить свое восхищение книгой Бахтина и надежду на то, что она будет в ближайшее время напечатана (см.:«Вопросы литературы», 1962, №3, с.86). Между прочим, Кожинов в этой статье тоже затронул, обсуждая проблему историзма в эстетике, «типологический» аспект работы Бахтина, выделив в ней рассмотрение двух «различных 'концепций' прекрасного человеческого тела ту, которая свойственна классической античности и новому времени в Европе , и другую, присущую древнему фольклору и средневековому искусству» (там же).
Публикация, послесловие и примечания Н.А.Панькова. АРХИВНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ Л.Е.Пинский Отзыв о книге М.М.Бахтина Главный редактор: Николай Паньков Оцифровка: В оформлении страницы использована «Композиция» Пита Мондриана.